Открытая книга - Страница 168
- Предыдущая
- 168 / 247
- Следующая

168
Но крустозина не было, и никакими силами невозможно было заставить плесневой грибок ускорить свою работу. Крустозина не было, и Катеньке стало хуже, и Стогин звонил и приезжал, и сидел в вестибюле, опустив голову, провожая каждого входящего и уходящего остановившимся взглядом. Он унес из лаборатории бульон (питательную среду, на которой растет грибок). Девочка выпила этот бульон. Разумеется, это не принесло ей – и не могло принести – ни малейшего облегчения.
Враг, с которым мы так и не справились, – время – продолжал действовать против нас. На любом лабораторном столе можно было найти пробирку со старым, потерявшим активность крустозином. А в термостатах медленно вырастал плесневой грибок, из которого можно было приготовить свежий препарат только через девять-десять дней после посева.
Мы с Леной поехали к профессору Вишнякову, одному из лучших терапевтов Советского Союза, и привезли его к больной, вернее было бы сказать – к умирающей. Профессор выслушал ее, посмотрел анализы, температурный листок.
– Так вы думаете, Татьяна Петровна, что улучшение наступило после впрыскивания вашего препарата?
– Да. Но препарата больше нет. Чтобы приготовить его, нужно время.
Грузный человек с умными усталыми глазами внимательно слушал, подняв большие старческие брови.
– Еще хотя бы два-три дня, и, быть может, ее удастся спасти.
Он чуть-чуть улыбнулся и печально пожал плечами.
– Я бы хотел, чтобы это было так. Ну что ж, сделаем все, что возможно.
Я почти не выходила из лаборатории и не знаю, как он боролся с надвигавшейся смертью, какими средствами воспользовался, чтобы отвоевать эти немногие дни. Но борьба шла, непрерывная, неустанная, острая.
Кажется, и мы сделали все, что могли за эти стремительно пролетевшие дни! Матрацы с питательной средой, на которой росла зеленая плесень, длинными рядами выстроились во всех термостатах. Везде, куда ни взглянешь, стояли эти плоские сосуды, и в каждом – мы были в этом уверены – таилась частица жизни, которую мы хотели вернуть Кате Стогиной, вернуть во что бы то ни стало!
К исходу третьего дня нам удалось приготовить препарат, и ассистенты Вишнякова стали вводить его внутривенно по пять кубиков через каждые три часа.
…Все перепуталось – дни и ночи. Все сдвинулось, смешалось: работа, какие-то дела, отчеты, отпуска – то, что еще неделю назад могло, казалось, существовать одновременно и независимо от болезни Кати. И все соединилось у постели маленькой худенькой девочки, лежавшей на высокой подушке с крепко затянутой полотенцем головой.
Все то же. Маленькая надежда. Никакой надежды. Как будто меньше одышка? Снова надежда.
Умное, с пристальным взглядом лицо Вишнякова, часами изучающего новое «воскресение из мертвых». Напряженно наблюдаем и мы. Час за часом. Ночью и днем. Меняется ли – и в чем – картина болезни? Так все-таки есть надежда? Да, может быть. Осторожные недомолвки врачей.
И все-таки девочке становится легче. Температура падает. Уменьшается резкая бледность. Давно миновали три дня, которые я требовала у знаменитого терапевта, а Катя живет…
– И будет жить? – спрашиваю я Вишнякова, который поздним вечером выходит из дома на Крымской площади. Мы с Леной провожаем его, и он идет между нами, задумчивый, рассеянный, тяжело опираясь на палку.
– Пока я могу сказать только одно: вот уже скоро сорок лет, как я наблюдаю эту тяжелую болезнь, и впервые не узнал ее. Вы совершили чудо. Но одна ласточка не делает весны. Будущее покажет.
Да, будущее покажет. Прошлую ночь мы почти не спали, но почему-то не хочется спать – ясный вечер, много гуляющих, светло.
– У тебя бывает когда-нибудь такое чувство, Танечка, что кончается одна полоса жизни и наступает другая?
– Бывает. И всегда хочется заглянуть в это новое, угадать его.
Мы с Леной идем по Кропоткинской, по бульварам. Каждая ветка нежной молодой зелени отчетливо видна под светом и повторяется в тонком рисунке теней на земле.
– У меня сегодня была такая минута… когда я посмотрела Кате в глаза и поняла, что она будет жить. И что это сделали мы.
– А помнишь тот вечер, когда мы кончили институт и собрались у моей подруги – не институтской, а лопахинской? У Нины. Вот когда мы пытались заглянуть в будущее! И оно казалось нам таинственным, сложным, необыкновенным.
Мы свернули в переулок. Здесь было темнее, чем на бульваре, но зато мы увидели звезды.
– Знаешь, какие у нее были глаза? Как у очень маленьких детей, когда они впервые начинают сознательно видеть… Теперь ты согласна, Таня, что пора публиковать нашу работу?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
НАДЕЖДЫ
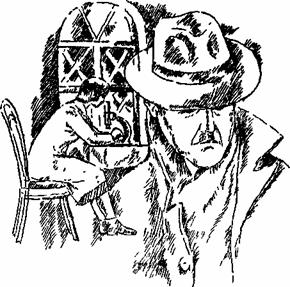
Глава первая
А ЖИЗНЬ ИДЕТ
ВСТУПЛЕНИЕ
– Москва, Москва… Да вы садитесь, товарищ Власенкова. Длинная история. Не дают нам Москву!
Дождь стучит по крыше маленького здания телеграфа в маленьком пограничном городке. Заливает окна, журчит вдоль панели, брызгая, выбегает из водосточной трубы. Без отдыха, без умолку. На стеклах, в сливающихся струях воды переламывается свет фонаря.
– Подождем, товарищ Власенкова. Видно, Москве не до нас!
Да, подождем. Телеграфистка похожа на Машеньку Спешневу – худенькая, прямая, с мягкими движениями, с нежным лицом. Я смотрю, как она работает – тонкие пальцы ловко, с треском вставляют в гнезда шнуры.
– Вы бы прилегли, товарищ Власенкова. У вас лицо усталое. Я разбужу, когда дадут Москву.
– Спасибо. Я подожду.
А ведь правда, как хочется спать! Дождь стучит успокоительно, равномерно, и под это постукиванье и журчанье, под этот раздробленный, пробегающий топот спит городок. За десять тысяч километров от фронта, от Москвы, от всего, о чем говорено-переговорено, думано-передумано, спит городок. Что же делаем мы в эту ночь, в эти дни, за десять тысяч километров от фронта?

- Предыдущая
- 168 / 247
- Следующая